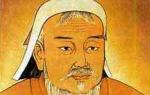Формирование теории «управляемого хаоса»
На этих основаниях и когнитивных ресурсах современной науки, прежде всего естествознания, и сложилась теория «управляемого хаоса». Изначально она вовсе не была связана с тем, чтобы сознательно «сеять хаос» у какого бы то ни было противника и тем более причинять ему вред. Да и вообще понятие «хаоса» вовсе не предполагало какого-либо «управления» и «управляемости» (ведь это прежде всего социальные факторы), поскольку основные исследования осуществлялись в рамках естествознания, для которого подобные феномены и понятия (т.е. «управления» и «управляемости») имеют минимальное значение.
Справедливости ради отметим, что некоторые элементы теории «управляемого хаоса» («контролируемой нестабильности») изначально разрабатывали Н. Элдридж и С. Гулд на основе идеи о «скачкообразной эволюции» О. Шиндуолфа (1950). Их работы и некоторые другие труды стали одним из стимулирующих факторов для новаторской работы Р. Тома и выработки способов управления событиями «нелинейной революции» 1970-1980-х гг. в Европе. Элементы теории обкатывались на практике во время «студенческой революции» 1968 г. в Париже. В 1968 г. Д. Шарп защитил в Оксфорде диссертацию на тему «Ненасильственные действия: изучение контроля над политической властью», развитие идей которой послужило идейной основой последующих «оранжевых революций» .
Теория управляемого хаоса опирается на ключевые идеи синергетики как междисциплинарного направления научных исследований, изучающего общие закономерности и принципы, лежащие в основе процессов самоорганизации в открытых системах самой разной природы. Классиками синергетики признаны И. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Хакен, С. Курдюмов и другие ученые. Во второй половине XX в. согласно духу и принципам неклассической и постнеклассической науки И. Пригожин открыл диссипативные структуры, системы, для которых не выполняется условие термодинамического равновесия. Эти системы характеризуются спонтанным появлением сложных, зачастую хаотичных структур. Диссипативные структуры противоречат началам классической механики, однако отвечают принципам теории относительности. Это в очередной раз подтвердило, что мир в огромном количестве своих измерений не является однозначно детерминистичным. Тем самым в исследования естественнонаучных процессов было привнесено понятие неравновесности и, соответственно, представление о возможности одновременного сосуществования порядка и беспорядка. То есть фактически речь шла об энтропии, хаосе.
Новаторство И. Пригожина состояло в признании позитивной роли хаоса в физических процессах. Рост энтропии в физических системах открытого характера, согласно Приго- жину, ведет к разрушению систем, но одновременно открывает новые возможности для их трансформации соответственно новым требованиям среды. Какой станет система после трансформации и произойдет ли она, зависит от выбора системой аттрактора - некоего фактора-инварианта, обусловливающего этот выбор и выступающим ориентиром для обозначения пути дальнейшего изменения. Такой выбор происходит в период прохождения системой точки бифуркации.
Количество возможных путей развития системы в такой точке не сводится к двум (или погибнуть от роста энтропии, или обрести какую-либо другую единственную траекторию развития), а может быть огромным и ограничиваться только количеством аттракторов, сформировавшихся (часть из них может быть сформирована целенаправленно) в системе в доби- фуркационный период ее существования.
Одновременно происходили огромные (и тесно связанные с отмеченными выше процессами в естествознании) изменения в социально-гуманитарном знании. Длительная борьба неокантианской и позитивистской традиций в понимании природы и специфики социально-гуманитарных наук привела, с одной стороны, к уяснению уникальности и неповторимости объектов этих наук и, соответственно, выводов из исследований, с другой - к утверждению в социально-гуманитарном знании группы методов естествознания, в том числе количественных.
Все это содействовало повышению уровня социальногуманитарного знания и более глубокому уяснению его специфики. Эта специфика, как известно, состоит в: а) особом характере его объекта (общество, человек, культура, история: абсолютной повторяемости нет, трудно уловить закономерности; частью его является субъект; происходит не только познание, но и оценка объекта); б) специфической роли субъекта (познание происходит через призму ценностей, интересов, целей, обусловливающих действия субъекта); в) осознанном целеполагании субъекта (получить такое знание, с помощью которого можно не только объяснить, но и оправдать, укрепить (осудить), изменить общественные институты и отношения).
В результате пришло осознание, что не существует такой научной парадигмы, которая объясняла бы социальную реальность (а во многом и природную) исчерпывающим образом. Любая социальная теория - это модель, которая существенно упрощает социальную действительность, между ними всегда есть «зазор», который находится вне объяснительных возможностей этой модели. Поэтому может быть много моделей и методологий, которые вполне работают в социально-гуманитарном знании , но не могут претендовать на статус единственной объяснительной парадигмы.
В значительной мере такому пониманию и переоценке ценностей способствовали эпистемологический анархизм П. Фейерабенда и философские интуиции родственного ему постмодернизма.
Согласно постмодернизму, ценностям антропо- и европоцентризма, как и вообще ценностям доминирования целого над частью и части над целым должен прийти конец. Это - ацентризм, т.е. отрицание привилегированных центров доминирования (Земли - в космосе, Запада - на Земле, мужчин - над женщинами, взрослых - над детьми и т.д.). Отвергается идеология и практика властвования, доминирования, насилия, войны - в пользу плюрализма, диалога, дискурса, совместного поиска решений, мира, согласия, основанных, однако, на неизбежных рас-согласованиях и разногласиях.
Постмодернизм прощается со всеми формами монизма, унификации, тоталитаризации, деспотизама. Вместо этого он переходит к идее множественности, разнообразия, конкуренции парадигм, к сосуществованию разнородного, гетерогенного. Постмодернизм начинается там, где кончается целое. Он против тоталитаризации - в архитектуре против монополии интернационального стиля, в политике - претензий на господство. Постмодернизм использует конец «единого» и «целого» в позитивном смысле, разворачивая «многое». Это - ядро постмодернизма, который радикально плюралистичен, но не потому, что поверхностен или безразличен, а потому что осознает непреходящую ценность различных концептов и проектов и т.д. Несмотря на повсеместную серьезную психологическую усталость от постмодернизма и «сопротивляющуюся» ему реальность, эти его достижения отменить уже невозможно.
В естествознании большую роль играет эксперимент, дающий объективный результат подчас независимо от целей исследователя; распространена установка на беспристрастное отношение к объекту и результатам исследования (хотя в неклассической и постнеклассической науке это уже практически невозможно). В социально-гуманитарном познании, где есть ценностное отношение субъекта к объекту, иная ситуация: объект не только познается, но одновременно и в первую очередь оценивается. В процедуре оценивания, в выборе целей и идеалов ярко выражены неопределенность, воля, избирательная активность субъекта, его приоритеты, которые могут включать и интуитивные, иррациональные и прочие моменты.
На фоне и в контексте этих и других гигантских изменений в естествознании и социально-гуманитарном знании и родилась теория «управляемого хаоса».
Повторим еще раз - изначально, судя по всему, не преследовалась цель использовать ее кому бы то ни было во вред. Даже созданный в 1984 г. Институт в Санта-Фе (США), связываемый с разработкой теории «управляемого хаоса» применительно к социальной реальности, был именно научным и назывался Институтом сложности, а основала его группа ученых, среди которых был лауреат Нобелевской премии автор теории кварков М. Гелл-Манн. Цель института - междисциплинарные исследования фундаментальных свойств сложных адаптивных систем, включая физические, математические, биологические и социальные.
Более того, важнейшим условием существования этого института стала его аполитичность. Здесь традиционно не проводятся исследования с политической окраской, которые могут сузить круг партнеров института или лишить его дополнительного финансирования (впрочем, впоследствии, ситуация несколько изменилась).
В компании IBM (США) в 1970-1980-е гг. успешно практиковалась «контролируемая анархия» (почти «управляемый хаос») как система управления. Иногда ее именовали «корпоративная анархия». Культура перманентных реорганизаций в компании была институализирована и ориентирована на перманентное изменение, перетасовывание структуры организации, усиление ее или удаление из нее лишнего, предоставление возможности множеству людей расширить свой профессиональный опыт: «...Подбрасывая в воздух все карты, удается избавиться от “слипаний”, которые неизбежно накапливаются в любой организации, в том числе решить проблему выявления сотрудников, достигших уровня собственной некомпетентности..., и обеспечить возникновение новых инициатив» . Более того, в IBM сложился институт «фиксе- ров» - специалистов, рассеянных среди служащих компании, имеющих большой опыт работы в ней и настолько гибких и раскованных, что это «граничит даже с неприкрытой циничностью в отношении к жизни внутри ИБМ, часто дополняемой почти «кровожадным» удовольствием от нанесения ударов по системе» . Иначе говоря, это «дикие утки», с которыми руководству жить неудобно, поскольку они выискивают слабые места системы, но значение которых для благополучия компании признается неоценимым. Если таких людей в компании нет, это имеет чаще всего для нее «ужасающие» последствия.
Теория управляемого хаоса сформировалась прежде всего как научная теория и была ориентирована на то, чтобы человечество могло извлечь из нее пользу, как и из любого открытия.
Посмотрим, в чем могла бы состоять эта польза.
- Сундиев И. «Управляемый хаос». Социальные технологии в массовых беспорядках // Свободная мысль. 2013. № 4.
- Например, социальные процессы с успехом объясняют и марксистская,и либеральная, и фрейдистская, и кейнсианская, и социал-демократическая,и веберовская, и многие другие теории.
- Мерсерер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира.М., 1991. С. 191.
- Мерсерер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира.С. 176.
Социальные технологии в массовых беспорядках
Массовые беспорядки в истории
Протесты, бунты, революции — это обязательный атрибут истории челове-чества, один из механизмов ее поступа-тельного движения. Основным субъек-том подобных процессов, как правило, является большая, внешне не организо-ванная группа людей, которая, в зависи-мости от научной школы, может назы-ваться либо «толпой», либо «массой».
Для социологов толпа — это случай-ное скопление людей (aggregation), сплоченная эмоциональными и вре-менными связями; для психологов — группа, кооперация внутри кото-рой носит сравнительно случайный и временный характер 2 . Историки обычно смешивают понятия «толпа» и «(народные) массы» 3 , хотя для анализа социально-политических про-цессов это абсолютно некорректно. Большинство современных социо-логов почему-то пребывает в уверен-ности, что «идея безумной (беснова-той) толпы появилась как ответ на социальные, экономические и поли-тические вызовы status quo в Европе в течение XVIII—XIX вв.» 4 Однако уже Платон первым обратил внимание на этот феномен, и его «ochlodest herion» был вполне адекватным концептом «безумной» толпы 5 .
Древнегреческие авторы были, как оказывается, хорошо знакомы с этим явлением. Так, В. Хантер проанализи-ровала «психологический» взгляд Фу-кидида на проблему толпы 6 , а Дж Обер, подчеркивая роль масс в историче-ских событиях, рассматривал перево-рот Клисфена как результат спонтан-ного восстания афинского демоса 7 . Таким образом, традиция осмысле-ния феномена безумной толпы до-статочно продолжительна. Комплек-сные криминолого-психологические и политологические исследования роли толпы в истории, механизмах ее формирования начали проводиться на материалах европейской истории XVIII—XIX веков (Г. Ле Бон, Ж. Рюде, Г. Тард и др.) 8 , причем в качестве ис-точников использовались полицей-ские архивы, газетные публикации, то есть «источники изнутри». В нашей стране огромную роль в исследовани-ях «безумной» толпы сыграли работы Н. К. Михайловского, В. М. Бехтерева и М. Н. Гернета 9 . В начале ХХ века прак-тически сложилась концепция толпы, включавшая и «безумную» разновид-ность, которая развивается и по сей день. Ее главные положения:
— толпа — не просто скопление людей, а особая психологическая об-щность, имеющая свои особые законо-мерности формирования и поведения;
— расовое, бессознательное общее у людей доминирует в толпе над ин-дивидуальными способностями;
— личность растворяется в толпе независимо от уровня ума, культуры, благосостояния, социального поло-жения;
— по умственным качествам она (толпа) значительно ниже своих от-дельных членов, склонна к быстрым переносам внимания, некритично ве-рит самым фантастическим слухам;
— толпа слепо подчиняется лидерам;
— нравственность толпы носит «черно-белый» характер: она видит только врагов и друзей, поэтому мо-жет проявлять как полное бескорыс-тие и героизм, самопожертвование, так и, под влиянием своего лидера, совершать любые преступления.
Революции, Гражданская и Великая Отечественная войны, как и последу-ющие экстремальные события, дали обильный материал для изучения массовых беспорядков в нашей стра-не 10 . К 1980-м годам сложилась весьма четкая теоретическая картина психо-логических и социальных процес-сов, приводящих к массовым беспо-рядкам 11 , которая позволила создать весьма эффективную систему борьбы с этими явлениями.
Новые технологии и смена парадигмы социальных трансформаций
С 1950-х годов начинается форми-рование новых «социальных» техно-логий и нового понимания мировых процессов через призму не поряд-ка, но хаоса. 11 сентября 1956 года в Массачусеттском технологическом институте собралась специальная группа Института электрической и электронной инженерии, занимаю-щаяся информационной теорией. Считается, что эта встреча положи-ла начало когнитивной революции в психологии. Среди присутствовав-ших были Джордж Миллер, Герберт Саймон, Аллен Ньюэлл, Ноам Хомски, Дэвид Грин и Джон Свитс. Нескольки-ми годами позже У. Нейссер выпустил свой труд «Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной пси-хологии», ставший теоретическим ма-нифестом течения 12 . В свою очередь, теорию «управляемого хаоса» (извест-на также как теория «контролируемой нестабильности») изначально разра-батывали Н. Элдридж и С. Гулд, бази-руясь на гипотезе о «скачкообразной эволюции» О. Шиндуолфа (1950). Эта и некоторые другие работы по про-блемам эволюционной теории послу-жили одним из стимулирующих тол-чков для пионерской работы Р. Тома и выработки способов управления событиями «нелинейной революции» 1970—1980-х годов в Европе. В пер-вый раз элементы теории обкатыва-лись на практике во время «студенчес-кой революции» 1968 года в Париже.
В том же 1968 году Джин Шарп за-щитил в Оксфорде диссертацию на тему «Ненасильственные действия: изучение контроля над политиче-ской властью», развитие идей которой послужило идейной основой после-дующих «оранжевых революций» 13 . Особый всплеск практического и на-учного интереса к проблеме «управля-емого хаоса» произошел под влияни-ем работы И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой», вышедшей на Западе в 1979 году (второе, перерабо-танное издание — 1984 год) и пере-веденной в России впервые в 1986-м. В 1992 году Стивен Манн опубликовал в журнале Национального военного колледжа в Вашингтоне работу «Тео-рия хаоса и стратегическая мысль», в которой соединил эту теорию с новы-ми геополитическими концептами за-воевания превосходства. Автор прямо говорит о необходимости «усиления эксплуатации критичности» и «созда-нии хаоса» у противника как инстру-ментах обеспечения национальных интересов США.
В качестве механизмов, призван-ных способствовать достижению этой цели, он называет «содействие демократии и рыночным реформам» и «повышение экономических стан-дартов и ресурсных потребностей, вытесняющих идеологию». Соглас-но С. Ману, существуют следующие средства создания хаоса на той или иной территории:
— содействие либеральной демо-кратии;
— поддержка рыночных реформ;
— повышение жизненных стандар-тов у населения, прежде всего элит;
— вытеснение традиционных цен-ностей и идеологии 14 .
Однако, для того чтобы все эти тео-ретические построения стали дейст-вующей политической доктриной, потребовалось развитие соответст-вующей технической (технологиче-ской) базы, и прежде всего доступных большинству населения информа-ционных технологий. Это произош-ло в начале 2000-х годов. Благодаря робототехнике, беспроводной связи 3G, Skype, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, iPad и дешевым смартфонам с поддержкой выхода в Интернет со-циум стал не просто связанным, а ги-персвязанным и взаимозависимым, «прозрачным» в полном смысле этого слова. Технические средства позво-лили создать сети нового поколения, которые формируют дальнейшее со-циальное развитие. Сегодня стоит вспомнить: изначально интернетов-ские социальные сети внедрялись для обеспечения и расширения социаль-ных сетей реально существующих — то есть бизнес-сообществ, универ-ситетских группировок, крупных семейств, масонских лож и т. д.
Можно вспомнить фразу из проро-ческой книжки Билла Гейтса (1995): «Предположим, вам нужно организо-вать торжественное собрание своего семейного клана с пуншем... Как сде-лать так, чтобы не тратить целый день на обзвон половины страны? Высокие технологии помогут вам!» 15 С учетом того, что западный мир в принципе пронизан разнокалиберными «братс-твами» и «кланами» не хуже, чем Ки-тай — триадами, целевая аудитория интернет-сетей была вполне понятна. Поскольку ожидать от них каких-ли-бо массовых беспорядков было не-лепо, а сговоры, заговоры и подко-верные союзы и без того составляют основу общественно-политической жизни развитых стран, этим брат-ствам и кланам инструмент сетевой самоорганизации был вручен без вся-кого страха. Однако во второй поло-вине 2000-х все перечисленные сети совершили своего рода эволюцию. Они перестали просто обеспечивать связью выпускников Гарварда или фанатов аниме. Из инструмента со-циальные сети сами стали основой и причиной для объединения людей и создания общностей.
В 2002 году вышла книга Говарда Рейнгольда «Умная толпа: новая со-циальная революция» 16 , положив-шая начало распространению новых форм социальной организации осно-ванных на массовом использовании информационных технологий. Как всегда, первыми «пользователями» новых технологий стали организо-ванная преступность и спецслужбы, организующие смену режимов в дру-гих странах 17 .
Традиционная и «умная» толпы: генетическое сходство и отличия
К настоящему времени можно го-ворить о нескольких разновидностях «умной толпы», которые получили быстрое и глобальное распростране-ние. Самая «простая» и самая распро-страненная из них — флэшмоб (так-же флэш-моб, флэш моб или просто моб, в английском языке flashmob — «толпа-вспышка»: flash — «вспышка», mob — «толпа») — то есть заранее спланированная массовая акция, ор-ганизованная, как правило, через со-временные социальные сети, в кото-рой большая группа людей внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут выпол-няет заранее оговоренные действия, называемые сценарием, и затем быс-тро расходится. Флэшмоб не имеет аналогов в мировой истории, хотя в культурологическом плане является частью перфомансной коммуника-ции наравне с перфомансом, хеппе-нингом и флюксусом 18 . Участники движения флэшмоба исходят из того, что у любой флэшмоб-акции сущест-вуют типовые правила. Наиболее важ-ные из них:
Технологически «криминальный карнавал» — это флэшмоб, содержа-тельно — осознанные грабежи, под-жоги, то есть совершение тяжких пре-ступлений ради развлечения лицами, в большинстве своем живущими на социальные пособия и не имеющими постоянной работы. «Криминальные карнавалы» — явление, свойственное только мегаполисам стран, имею-щим развитые социальные програм-мы, благодаря которым многие по-коления граждан могут нормально существовать, никогда не занимаясь постоянной работой. Как показывает опыт Парижа, Лондона, Манчестера, Филадельфии, «криминальные карна-валы» способны хаотизировать круп-ный город на достаточно продолжи-тельное время.
Третья разновидность «умной тол-пы» — «мирный бунт» 20 , то есть ор-ганизуемые через социальные сети политические акции, ставящие своей целью делегитимацию действующей власти в глазах населения и мирово-го сообщества. Технологии управляе-мой смуты, применяемые в «мирном бунте», базируются на своеобразном «социальном хакерстве». Предполага-ется, что, в то время как граждане от-казывают государству в повиновении, перестают поддерживать социальные связи, необходимые для нормального политического функционирования общества, само государство не отказы-вается и не может отказаться от своих обязательств перед ними. Участники «мирного бунта» опираются на незыб-лемость классической нормы, которую русский философ Владимир Соловьев сформулировал следующим образом: «Никакое действие преступника не может упразднить безусловных прав человека». Поэтому они предполагают, что в ответ на свои действия, которые хотя и являются ненасильственными, но от этого не теряют противоправ-ного характера, они будут в лучшем случае задержаны, может быть, избиты (эти побои можно с гордостью будет продемонстрировать в эфире отечест-венных и западных телеканалов), но своих основных гражданских прав не лишатся. Полиция по-прежнему обя-зана будет их защищать от грабителей, «скорая помощь» приедет по вызову, в тюрьме им предоставят адвоката и т. д.
В отличие от рассмотренных выше форм «умной толпы» данная разно-видность имеет достаточно слож-ную структуру, близкую структуре традиционной действующей толпы: примерно 10 процентов составляют организаторы (менеджеры), коорди-нирующие деятельность остальных участников в режиме реального вре-мени; около 30 процентов — рекруты, то есть нанятые за плату участники. Не менее половины рекрутов — бо-евики, задачей которых служит про-воцирование силовых конфликтов с представителями власти и право-охранительных органов. Остальные 60 процентов — любопытные члены интернет-сообществ, в которых об-суждалась подготовка данной акции, и их знакомые.
Именно любопытные при дости-жении в акции ключевой цели — провоцирования власти на силовые действия — становятся базой для об-разования панической толпы, дей-ствия которой, как правило, сопро-вождаются жертвами. Большая часть организаторов, как выясняется, про-шла подготовку по программам Цен-тра практического ненасильствен-ного действия и стратегий, CANVAS, находящегося в Белграде и организо-ванного бывшими активистами серб-ского «Отпора». Организация готови-ла активистов грузинской «Кхмары», украинской «Пора», египетской «6 ап-реля» и «Кефайя». В настоящее время CANVAS работает с активистами из более чем 50 стран, в 12 из которых произошли смены режимов 21 .
Основное отличие между тради-ционной и «умной» толпами состо-ит в формах возникновения: если для первой нужен «шоковый стимул» (внезапное событие, прямо затраги-вающее жизненные интересы учас-тников), то формирование «умной толпы» готовится продолжительным обсуждением в сетевых ресурсах и средствах массовой коммуникации. Непосредственно же на месте сбора «умная толпа» формируется гораздо быстрее традиционной (несколько минут против 3—6 часов). Второе от-личие заключается в структурирова-нии: если действующая агрессивная толпа в своей «безумной» модифи-кации имеет четкую структуру (см. Рис. 1), то для «умной толпы» харак-терно «роение».
Направления профилактики противоправных действий «умной толпы»
Так как образование «умной тол-пы» не является «естественной реак-цией на внезапно возникшие собы-тия», а есть часть целенаправленных действий по хаотизации социальной обстановки, то этот процесс требует вполне конкретных ресурсов — орга-низационных, финансовых, инфор-мационных, технических. Основ-ной вопрос профилактики «умной толпы» — выяснение, кто, сколько и каких ресурсов выделил и кто, как и когда собирается ими воспользовать-ся. Как это ни парадоксально звучит, но именно ответы на эти вопросы не являются «страшной» тайной — они обсуждаются на сетевых форумах, печатаются в статьях, обсуждаются в теледебатах.
Шоковое впечатление, которое производили на власть действия «умной толпы», вполне объяснимы: любой государственный аппарат за тысячелетия традиций сохранения власти привык к тому, что его контр-агент будет скрывать свои намере-ния. Открытость воспринималась как уловка, при этом ответные дей-ствия властей на фоне глобальной медийной открытости «мирных бун-товщиков» выглядят неуклюжими и неадекватными в глазах не только «мирового сообщества», но и собст-венных граждан. Образно говоря, власть по-прежнему пытается играть в покер, когда ее противник (в дан-ном случае — «умная толпа») играет в шахматы. Выход один — принять открытость как данность и начать играть в шахматы. Как это может вы-глядеть на практике?
И традиционная, и «умная» тол-пы возникают не на пустом мес-те, а формируются вокруг неких «центров кристаллизации». У тра-диционной толпы они свои, у «ум-ной» — свои. В первом случае «цен-тры кристаллизации» расположены в криминальной среде, во втором — в виртуальной. «Центры кристал-лизации» — это организационные ресурсы толпы. Для «умной толпы» таковыми являются: неправитель-ственные организации, нефор-мальные объединения, сетевые со-общества, фанатские и бойцовые клубы. Мониторинг их сетевой ак-тивности позволяет выявить мас-штаб подготовки к очередной ак-ции, ее участников. В необходимых случаях — начать сетевую игру по противодействию данным планам. Это отнюдь не противоречит «шах-матной» открытости: если кто-то из граждан государства открыто за-являет о своих намерениях бороть-ся с государством, то нельзя возму-щаться действиями государства по соб ственной защите.
Поскольку деятельность «умной толпы» связана с широким исполь-зованием технических средств и привлечением наемного персона-ла (организаторов и рекрутов), она не возможна без достаточного фи-нансирования (это дополнительное отличие от стихии традиционной толпы). Откуда берутся деньги, и как происходит финансирование? Как правило, это наиболее болезнен-ный вопрос, так как недостаточная финансовая прозрачность делает криминальным уже весь процесс подготовки акций. Но прозрач-ным является обычно лишь первый этап — перечисление денег из-за рубежа и от отечественных частных инвесторов неправительственным и общественным организациям 22 . Об-ладатели финансовых средств могут легально оплатить только неболь-шую часть затрат на проведение акций «умной толпы». Дальше начи-нается криминал: оплата рекрутов и «специальных» акций.
Самый криминальный путь — оп-лата наличными — в последнее вре-мя практически не используется. На-иболее популярный и относительно безопасный для организаторов вари-ант — использовать для оплаты Ин-тернет. В Европе подобные платежи давно являются объектом расследо-вания и уголовного преследования 23 ; в нашей же стране, благодаря несо-вершенству законодательства, эта практика относительно безопасна для «мирных бунтовщиков» и очень распространена в их среде. Типич-ный пример сетевого отчета Б. Нем-цова: «...бюджет Сахарова (митинга на проспекте академика Сахарова. — И. С.) складывался из установки сце-ны, звукоусиливающей аппаратуры, экранов (2,5 миллиона рублей), про-ведения социологического исследо-вания по решению Оргкомитета стоимостью 252 тысячи рублей 24 , организации инфраструктуры ми-тинга (туалеты, заграждения и проч.) стоимостью 200 тысяч рублей. Под-робный отчет о доходах и расходах в ежедневном режиме Ольга Рома-нова публикует на своей странице в Facebook. Кстати, вот последний отчет по данным на 11:13 сегод-няшнего дня. В кошельке Романовой № 410011232431933 собрана сумма 2 465 120 рублей 18 копеек. Вы мо-жете перечислить эти средства без комиссии и анонимно через салоны "Евросети", а также через терминалы, где обычно пополняете свой счет за телефон. Члены Оргкомитета при-няли решение в личном качестве пе-речислить средства. Сегодня я уже это сделал» 25 . В данном тексте и попытка оп-равдаться, и призыв использовать платеж-ную сеть для аноним-ного сбора средств. Выход для предотвращения подоб-ных путей финансирования акций «умной толпы» — использовать меж-дународный опыт и приводить зако-нодательство в соответствие со сло-жившимися реалиями.
«Умная толпа» не может сущест-вовать без сетевых ресурсов — это ее воздух, ее пространство, ее ин-струмент. Попытки лобового ре-шения проблемы — нейтрализация «умной толпы» путем техническо-го отключения сетевых ресурсов в государстве — удалась в Китае, Ира-не и, отчасти, в Белоруссии. Уже во время «арабской весны» эта такти-ка оказалась бесплодной. Причи-на одна: мировым сообществом во главе с США доступ граждан к сете-вым ресурсам был объявлен одним из фундаментальных прав человека.
12 апреля 2011 года на конферен-ции «Freedom House» в Вашингтоне был представлен подготовленный этой организацией доклад «Руко-водство в помощь пользователям Интернета в репрессивных госу-дарствах». Заместитель помощника государственного секретаря США Дэниел Бэр, возглавляющий Бюро по демократии, правам человека и труду, которое финансировало доклад, назвал инструменты пре-одоления цензуры «самым важным способом поддержки цифровых ак-тивистов и других пользователей, живущих в обстановке репрессий и зажима Интернета» 26 .
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила в своей речи 15 февраля 2011 года: «Соеди-ненные Штаты продолжают помогать людям, живущих в условиях зажима Интернета, обходить фильтры, всегда на шаг опережать цензоров, хакеров и бандитов, которые избивают их или сажают в тюрьму за высказывания в Сети». По ее словам, Государствен-ный департамент потратил на эту ра-боту более 20 миллионов долларов, а в 2011 году намеривался израсхо-довать еще 25 миллионов долларов. В этой речи госсекретаря США анон-сировался новый проект «революции гаджетов» c использованием техноло-гий стелс-интернета. Цель програм-мы — обойти запреты на пользова-ние Интернетом и даже мобильными SMS, которые ввели ряд правительств в момент беспорядков в их странах. Подобные ограничения были введе-ны весной—летом 2011 года в Сирии, Ливии, Египте, Иране.
Стелс-станции, похожие на чемо-даны с антеннами, предназначены для моментального доступа в Мировую паутину в районах массовых беспо-рядков. Как сообщают американские источники, агенты США уже заложи-ли целые партии вместе с модернизи-рованными мобильниками в землю в условленных местах в «проблемных странах» — для пользования «груп-пами диссидентов в час Х» 27 . Таким образом, правительства не смогут пе-рекрыть протестующим информаци-онный «кислород», лишив их сотовой связи и Интернета, и те смогут коорди-нировать свои действия друг с другом. Другой проект, который опирается на технологии «Mesh Network», объеди-няет мобильные телефоны, смартфо-ны и персональные компьютеры для создания невидимой беспроводной сети без центрального концентрато-ра — каждый такой телефон действу-ет в обход официальной сети, то есть напрямую. Сообщается, что опытные включения такой «шпионской» сети уже производились в Венесуэле и Ин-донезии.
Проводятся эксперименты и с использованием Bluetooth-техно-логий: скажем, рассылка важных со-общений по всем телефонам такой альтернативной сети, минуя офици-ального интернет-провайдера. Эта функция требует только модифи-кации микропрограмм в смартфо-нах — и больше ничего. При боль-шой плотности телефонов в городах это позволит координировать про-тестующих, даже если мобильную сеть в районе беспорядков власти отключат совсем.
Развертывание во время массовых беспорядков сотовых сетей, под-контрольных только Соединенным Штатам, не может не возмутить лю-бое государство. По существу, США создали почву для глобальных кон-фликтов нового уровня: теперь в мо-мент массовых беспорядков в лю-бой стране могут быстро возникать агентурные сети, объединяющие разом тысячи и десятки тысяч або-нентов, работающих против свое-го правительства. Ни технически, ни организационно спецслужбы ни одной страны мира пока не готовы противодействовать таким угрозам, но и оставаться безучастными они не могут тоже.
От государственных структур требуется изменение структурно-управленческого видения ситуации. Фактически речь идет о том, что пока государство как классическая иерархическая система пытается бороться с «умной толпой» (класси-ческой сетевой структурой) исклю-чительно классическими способа-ми. Образно говоря, госструктуры пытаются молотком победить пле-сень. Получается громко, зрелищ-но — но неэффективно. Достаточно давно подтвержденное правило: с сетевыми структурами могут эф-фективно бороться только другие сетевые структуры, работающие в том же операционном поле, что и их противники 28 .
И в заключение. Инициация и ло-кализация состояния «управляемо-го хаоса» с помощью акций «умной толпы» уже достаточно отработаны и представляют реальную угрозу го-сударственности в нашей стране. Минимизация этой угрозы возможна при учете всех специфических черт этих феноменов. ♦
Ключевые слова: теория «управляемого хаоса», управление, социальная энтропия, социальное проектирование, аттрактор, социальная технология, самоорганизующаяся критичность, «мягкий сдвиг». Keywords: theory of «controlled chaos», governance, social entropy, social planning, attractor, social technology, selforganized criticality, «soft shift».
Тема «управляемого хаоса» появилась в повестке дня отечественного научного и публицистического сообщества, а также политикума в конце 1990-х - начале 2000-х гг. Поскольку все импульсы и информация по этой теме исходили от западных источников и авторов, в т.ч. по результатам соответствующих практик, проблема была воспринята настороженно и в основном в штыки. В существенной степени это было объяснимо, поскольку мало кому может понравиться ситуация, когда против твоей страны (а значит, и против тебя) вполне эффективно используют технологии ее разрушения (да еще и не скрывают этого), среди которых идея «управляемого хаоса» сразу же заняла заметное место. Однако вместе с грязной водой, как нередко бывает, выплеснули и здорового ребенка. К этой теме можно было бы лишний раз не возвращаться, если бы не завидное постоянство многих персонажей социальной и политической жизни по всему свету в их стремлении утвердить «стабильность» и «твердый порядок в мире», установить «надежные и неизменные правила игры», вера в возможность преодолеть любой хаос и беспорядок в социуме, не оставив места ни малейшему нарушению этих правил.
Стремление это смотрится неплохо, жаль только, что имеет мало отношения к реальности. Теория хаоса утверждает, что это невозможно, поскольку феномен хаоса - это онтологическое свойство не только природы, но и социальной реальности. Но подробнее об этом чуть позже, а сначала кое-что об истории и теории.
Немного истории
Идея «хаоса» вызывает прежде всего отрицательные коннотации и ассоциации с деструкцией. Хаос во все времена означал беспорядок и нарушение приемлемых для людей условий жизнедеятельности. Поэтому хаотизация использовалась прежде всего в этих целях. Практика создания хаоса в стане исторического и военного соперника существовала с незапамятных времен, несмотря на полное отсутствие соответствующей теории. Варвары сеяли хаос в Древней Греции и Древнем Риме, равно как и последние успешно занимались тем же в тылу у первых (стравливание племен, вождей). «Великолепными» хаотизаторами нормальной жизни на протяжении сотен лет были кочевники - воины Атиллы, печенеги, половцы, татаро-монгольские орды, а также воины Тамерлана и т.д. Идея хаоса отчетливо просматривается в формуле «ввязаться в бой, а там посмотрим», которую исповедовали в своей практике Наполеон, большевики и многие другие субъекты и акторы социальной, политической, военной, экономической жизни. Еще одна формула - «Разделяй и властвуй» - создававшая состояние хаоса, активно использовалась, в частности, в эпоху колониальных империй (британской, французской, голландской, испанской, португальской и других) Нового времени, а также в периоды последних Мировых войн.
Мао Цзэдун четыре десятилетия держал Китай в состоянии перманентного беспорядка. Район большого Ближнего Востока на протяжении многих сотен лет - территория и пространство хаоса и конфликтности, обусловленных совокупностью исторических, культурных, религиозных, геополитических, экономических факторов, многие из которых воспроизводятся вполне осознанно и целенаправленно Практика в деле создания хаоса сложилась разнообразная - нарушение систем связи, оповещения и управления; разрушение коммуникаций, что лишает противника возможности снабжения войск, предприятий и населения; паника и деморализация населения; дезинформация противника относительно собственных планов, расположения войск, направлений ударов и применяемых средств (США - стратегическая оборонная инициатива и «звездные войны» в 1980-е гг.); обрушение за счет вброса фальшивых денег; создание центров противодействия официальным властям (что-то вроде «пятой колонны», организаций и агентов влияния) и многое другое. На протяжении сотен лет практика формирования хаоса в стане противника носила полуинтуитивный, инструментально-рецептурный характер, без всякой опоры на сколько-нибудь осознанную и вменяемую теорию - разумеется, если не считать в качестве таковой известные страте(а)гемы (понимаемые как военные хитрости, хитроумные планы) древнегреческих и древнеримских авторов и китайских мудрецов и полководцев или идеи военных стратегов вроде Клаузевица.
Это и понятно - сама наука претерпевала долгий период становления, перехода из одного качества в другое. Как социальный институт и производительная сила она сформировалась лишь в XVIII в. Кроме того, социальногуманитарные науки принципиально отличаются от естественных, в основном отставая от них в своем развитии и используя преимущественно качественные, а не количественные методы. Так что поставить практику «хаотизации» на сколько-нибудь научные основы не представлялось возможным. Однако в ХХ веке ситуация изменилась.
Естественнонаучные и методологические основания теории «управляемого хаоса»
В начале ХХ в. наука вступила в качественно новый этап своего развития. Классическое ее состояние (XVIII- XIX вв.) сменилось сначала неклассическим, а примерно с 1970-х гг. она постепенно «втягивается» в постнеклассический этап1 . У всех этих этапов и состояний науки разные социальные основания, онтология, эвристика, методология, когнитивно-эпистемологическая оптика. Изменились представления о самой научной рациональности, совершенно иной стала картина мира. Классическая наука Ньютона, Лапласа, Ламарка, Дарвина «работала» с линейными, закрытыми, равновесными, стабильными, устойчивыми предсказуемыми системами. Она была «центростремительной», детерминистской, выявляла и учитывала четкие причинно-следственные связи и ряды, законы. Случайность рассматривалась как результат «незнания» и исключение. Мир и даже человек представлялись механизмами, объяснимыми с точки зрения классической механики (Ж. Ламетри, «Человек-машина», 1747). Иначе говоря, механицистская картина мира и модель распространялись на общество и происходящие в нем процессы. В классической науке господствует чистый объективизм, абсолютная истина и определенность знания, однозначный детерминизм законов и отношений. Субъект познания трансцендентален, надиндивидуален. Законы универсальны и всеобщи. Очевиден монотеоретизм - одному объекту соответствует одна истина, не может быть двух истин об одном объекте. Элементарная частица теории - понятие.
Теория должна быть доказана. Базисная лингвистическая характеристика знания - текст, все значения которого устанавливаются. Научная теория - это дедуктивно-упорядоченный текст, дедуктивная система (математика, формально-логические системы). Налицо мощная формализация и идеализация реальности. Существует универсально научный метод (индукция; дедукция; восхождение от абстрактного к конкретному; диалектика и т.д.). Целое объективно есть сумма частей (элементов). Первична необходимость, а случайность или результат - незначимы. Наука ценностно нейтральна. Научный текст логически гомогенен. Существенно «то», что определяет «другое». Исходное начало научного познания - опыт. Однако объяснить накопившиеся в естествознании к концу XIX в. новые факты и явления классическая наука оказалась неспособной. Среди этих фактов и явлений - рентгеновское излучение, радиоактивность, открытие атома и его ядра, а также электрона, корпускулярно-волновая (двойственная) природа элементарных частиц, формирование теории относительности, квантовой механики, конструктивной логики и математики и т.д. Еще раньше в этом направлении продвигала науку неевклидова геометрия Н. Лобачевского, Я. Бойяи, Б. Римана. Классическая наука вошла в стадию кризиса.
Пришло осознание ограниченности ее когнитивных ресурсов. В результате в начале ХХ в. сформировалась неклассическая наука, которая стала иметь дело с новыми объектами - открытыми, нелинейными, неравновесными, неустойчивыми, во многом непредсказуемыми системами и объектами (микромир, общество, культура, история, человек, политика, экономика, искусство, религия, коммуникации, экология и т.д.). В неклассической науке знание - субъектно-объектно. Объект непрозрачен. Создается его субъективная модель. Наука дает лишь относительную определенность. указывает интервал, но не точку. Нет полного совпадения знания и объекта, понятий и реальности. Детерминизм - вероятностен, детерминизм с мерой, количественный (1/3, а не 1/5). Субъект познания трансцендентален, но одновременно и социален (неокантиантство, Рикерт, Коген). Абстракции менее сильны, чем в классической науке. Возможно несколько истин об одном объекте, следовательно, все теории неполны и относительны, в них возможны противоречия (частицы и волны в квантовой теории).
Элементарная «частица» теории - термин. Научные теории не доказываются (это невозможно), а подтверждаются. Непосредственно изучается предмет как аспект объекта. Непосредственный объект - абстрактный объект. Базисная лингвистическая характеристика знания - текст, погруженный, однако, в контекст, отсюда - относительность знания. Любая теория погружена в контекст науки. Научная теория - частично структурированный текст, работает по отношению только к модели. Частное может опровергнуть не общее, а только частное. Методология плюралистична (Фейерабенд), есть комбинация методов (мозаика). Критерий - успех на практике. Наука - езда в незнаемое. Средств познания - много. Целое - больше суммы частей (системность). Первичны статистический закон, вероятность. Фундаментальные законы - вероятностны, статистичны. Научное знание частично ценностно обусловлено. Научный текст лишь частично гомогенен, следовательно, гетерогенен. Есть качественно разные измерения науки (функции, структура, идеализированные или эмпирические объекты), элементы и уровни (теоретический - эмпирический, обыденный - рациональный и т.д.). Возможна онтология как идеальных, так и эмпирических объектов. Вопрос в том, как их описывать, можно ли онтологизировать теоретические объекты. Потенциальный мир - «черная дыра» науки. Исходное начало научного познания - мышление. Научное знание - языковое, слово, понятийное, т.е. мышление.
Практическая установка по отношению к объекту - управление через его самоорганизацию, учет внутренних за конов самого объекта. Исповедуется разумный скептицизм по отношению к любым теориям, готовность к критике - из этических принципов, а также способ и правило развития науки Наука и к себе должна быть критичной. Наука - часть социокультуры. Поскольку наука обусловлена культурой, она не вполне самостоятельна. Во второй половине ХХ в. наука стала обретать черты постнеклассичности. Постнеклассическая наука является, с одной стороны, продолжением неклассической науки, с другой - ее отрицанием. Лидеры постнеклассической науки - биология, синергетика, экология, глобалистика, науки о человеке.
Главный объект постнеклассической науки - сверхсложные системы, включающие в себя человека как основной элемент своего функционирования и развития (механические, физические, химические, биологические, экологические, инженерно-технические, технологические, медицинские, социальные, компьютерные и т.д.). Идеология, философские основания, методология, эпистемология постнеклассической науки существенно отличаются и во многом несовместимы с принципами не только классической, но и неклассической науки. Для постнеклассической науки научное познание в высокой степени субъективно. Объективность манифестируется как консенсуальность. Познают реальные субъекты - ученые. Объект таков, каким его видит научное сообщество. Есть неявное знание, много допущений, «надводная» и «подводная» части знания. Есть решения, принятые субъектом по поводу того, каков объект (пока объект не «докажет» обратное). Все есть допущение.
Все понятия, суждения, теории, принципиально недоопределены. Следовательно, неопределенны до конца (эмпирически и дискурсивно). Высока роль индукции, постмодернистских подходов в оценке знания (например, отличие мифа от науки - чисто количественное). Господствует индетерминизм. В основе мира - случай, детерминизм - редкое состояние связи. Господство резонансных связей и отношений, по совпадению. Отсюда - идея аттрактора (например, солдаты на мосту не должны идти в ногу). Мир - хаос, случайность. Космос - закон, но это редкий случай. Субъект познания (индивидуальный или коллективный) - эмпиричен. Познают реальные субъекты, индивиды. Отсюда - возможность социологии познания (исследование поведения, рисков). Еще менее сильные абстракции, чем в неклассической науке. Цель познания - не истина, а гипотеза. Теории и законы выступают как идеализации, схемы. Возможно неограниченное, бесконечное число теорий-описаний одного объекта. Теории описывают потенциально возможные миры, а не эмпирические. В определенном смысле теория возвращается к миру идей Платона. Элементарная частица научной теории - знак, символ (метафора).
Научные теории, истины утверждаются («считаю это истиной, утверждаю, что это истина»). Истина невозможна без воли. Истина есть когнитивная воля (конструктивизм). Субъект творит истину, создает ее, утверждает. Истина - интеграл, синтез какой-либо группы суждений разных людей, которые ее принимают, пользуются как парадигмой. Истина - игра. Наука - игра в истину. Истина - аттрактор науки, точка притяжения ее усилий, средство и цель. Но истины мы не знаем. Объект не детерминирует истину. Предмет познания - сконструированная научным сознанием сущность. Субъект что-либо придумывает, потом ищет применение. Субъект описывает какую-либо сущность, потом пытается ее применить, совместить с реальностью. Если совпадает - хорошо. Базисная лингвистическая характеристика знания - интертекст. Совокупность интертекстов составляет гипертекст. Математика для физики - интертекст (как и философия), т.е. более широкая реальность.
Гипертекст - все знание, которым обладает человечество, вся культура. Следовательно, знание социокультурно обусловлено. Элемент зависит от контекста. Творчество как конструкт позволяет свободнее описывать что-либо, т.к. позволяет не устанавливать все детерминационные связи. Научная теория - нарратив, повествование, сюжет, рассказ (про идеальную точку, элементарную частицу и т.д.), как повесть о Ромео и Джульетте. Есть законы, теории, но это не логическая организация, а повествование. Ничто не жестко. Вес каждого параметра - разный. Хотя нарратив в науке - вполне четкий (субъект, объект, правила и т.д.). Нарратив принимается коллективно (научная истина).
Должна быть не жесткая конструкция, но конструкциянарратив, метафора. История невозможна без метафор. Сначала идея, а потом - обобщение. Излюбленное выражение - «как бы» - защитная форма в современном разорванном обществе. Символ времени - единство определенности и неопределенности. Поэтому антропология науки должна быть создана не только в культурологическом, но прежде всего в когнитивном отношении. Наука - особый лингвистический способ самовыражения и творчества личности, игра в истину. В этой игре человек самовыражается. Целое - целесообразное взаимодействие частей (холизм). В роли цели - аттрактор, который потенциально в системе уже есть. Цель одна - найти аттрактор в точке бифуркации («не может паства обойтись без пастыря»). Цель ставит субъект - индивид или структура. Постнеклассическая наука не отрицает предшественников. Она говорит: «да, и ваши идеи действуют, и моя - не догма». Но все имеет ограничения. Постнеклассика принципиально плюралистична. Проблема в том, как уйти от безбрежного плюрализма, ограничить его, особенно в науке, в социуме. Суть онтологии первичности - случай. Все уникально, единично. Необходимость - лишь форма случайности, один из типов случайных связей.
Научное знание - это игра интерпретаций ученых. От субъекта зависит конструкция науки. Логически и лингвистически научный текст гетерогенен, есть смесь разнородных элементов, которая, однако, работает. Важно объяснить, почему, как это работает? Исходное начало научного познания - здравый смысл. Он все контролирует. В нем есть все - рациональное, иррациональное, эмпирия, интуиция и т.д. Практическая установка - свободное взаимодействие с объектами, направленное на максимальную адаптивность и пользу для человека. Человек не должен терять адаптивный потенциал в процессе и результате управления. Отсюда игра с объектом - он «на поводке, который можно на себя, от себя», прямые и обратные связи и т.п. Сильна ирония и самоирония. Ничто не надо сильно «брать в голову». Играй, но «не зарывайся». Т.е. игра в меру, даже эстетику. Никто и ничто не является «пупом Земли». Любую науку, научную теорию или систему можно раскритиковать.
Гуманизм - главная ценность. На все надо смотреть не объективистски, а с позиций человека. Наука - продукт человека и должна служить ему, быть человечной. Гуманизм - главное измерение науки, должен включаться во внутреннюю оценку науки. Лишь то знание ценно, которое служит целям человека. Это подтверждает мудрость и ценность софистов. Знание должно быть антропоцентричным, прагматичным. Знание, наука - чисто человеческие конструкты, инструменты приспособления к действительности. Ключевой для неклассической и особенно постнеклассической рациональности становится парадигма «субъект - полисубъектная среда»: субъект должен соотносить свои идеи и действия с идеями и действиями других субъектов и игроков, коих довольно много. Кроме того, значимыми становятся не только (а может и не столько) привычные причинно-следственные, но и когерентные, резонансные связи. Под взаимодействием (в частности, управлением) понимается не жесткая детерминация систем, а «мягкие формы управления» - создание условий для их развития.
В саморазвивающихся системах имеет место система онтологий1 , в которой находят место различные механизмы социальных воздействий: управление (в контексте классической и неклассической науки), организация, модерирование, медиация, поддержка, стимулирование и т.д. Смена этапов и состояний науки не означает, что каждый последующий этап отменяет предыдущий. Просто всякий раз обнаруживается ограниченность и недостаточность объяснительных, когнитивных возможностей предшествующих состояний науки. Сегодня для полетов в космос, строительства городов и дорог вполне достаточно возможностей классической науки и законов Ньютона, поэтому это знание востребовано. Однако пространство микромира, социума, культуры, человека требует иных знаний и возможностей.
Формирование теории «управляемого хаоса»
На этих основаниях и когнитивных ресурсах современной науки, прежде всего естествознания, и сложилась теория «управляемого хаоса». Изначально она вовсе не была связана с тем, чтобы сознательно «сеять хаос» у какого бы то ни было противника и тем более причинять ему вред. Да и вообще понятие «хаоса» вовсе не предполагало какого-либо «управления» и «управляемости» (ведь это прежде всего социальные факторы), поскольку основные исследования осуществлялись в рамках естествознания, для которого подобные феномены и понятия имеют минимальное значение. Справедливости ради отметим, что некоторые элементы теории «управляемого хаоса» («контролируемой нестабильности») изначально разрабатывали Н. Элдридж и С. Гулд на основе идеи о «скачкообразной эволюции» О. Шиндуолфа (1950). Их работы и некоторые другие труды стали одним из стимулирующих факторов для новаторской работы Р. Тома и выработки способов управления событиями «нелинейной революции» 1970-1980-х гг. в Европе. Элементы теории обкатывались на практике во время «студенческой революции» 1968 г. в Париже. В 1968 г. Д. Шарп защитил в Оксфорде диссертацию на тему «Ненасильственные действия: изучение контроля над политической властью», развитие идей которой послужило идейной основой последующих «оранжевых революций»2 .
Теория управляемого хаоса опирается на ключевые идеи синергетики как междисциплинарного направления научных исследований, изучающего общие закономерности и принципы, лежащие в основе процессов самоорганизации в открытых системах самой разной природы. Классиками синергетики признаны И. Пригожин, И. Стенгерс, Г. Хакен, С. Курдюмов и другие ученые. Во 2-й половине XX в. согласно духу и принципам неклассической и постнеклассической науки И. Пригожин открыл диссипативные структуры, системы, для которых не выполняется условие термодинамического равновесия. Эти системы характеризуются спонтанным появлением сложных, зачастую хаотичных структур. Диссипативные структуры противоречат началам классической механики, однако отвечают принципам теории относительности. Это в очередной раз подтвердило, что мир в огромном количестве своих измерений не является однозначно детерминистичным. Тем самым в исследования естественнонаучных процессов было привнесено понятие неравновесности и, соответственно, представление о возможности одновременного сосуществования порядка и беспорядка. Т.е. фактически речь шла об энтропии, хаосе. Новаторство Пригожина состояло в признании позитивной роли хаоса в физических процессах. Рост энтропии в физических системах открытого характера, согласно Пригожину, ведет к разрушению систем, но одновременно открывает новые возможности для их трансформации соответственно новым требованиям среды. Какой станет система после трансформации и произойдет ли она, зависит от выбора системой аттрактора - некоего фактора-инварианта, обусловливающего этот выбор и выступающего ориентиром для обозначения пути дальнейшего изменения.
Такой выбор происходит в период прохождения системой точки бифуркации. Количество возможных путей развития системы в такой точке не сводится к двум (или погибнуть от роста энтропии, или обрести какую-либо другую единственную траекторию развития), а может быть огромным и ограничиваться только количеством аттракторов, сформировавшихся (часть из них может быть сформирована целенаправленно) в системе в добифуркационный период ее существования. Одновременно происходили огромные (и тесно связанные с отмеченными выше процессами в естествознании) изменения в социально-гуманитарном знании. Длительная борьба неокантианской и позитивистской традиций в понимании природы и специфики социально-гуманитарных наук привела, с одной стороны, к уяснению уникальности и неповторимости объектов этих наук и, соответственно, выводов из исследований, с другой - к утверждению в социально-гуманитарном знании методов естествознания, в т.ч. количественных. Все это содействовало повышению уровня социально-гуманитарного знания и более глубокому уяснению его специфики. Эта специфика, как известно, состоит: а) в особом характере его объекта (общество, человек, культура, история: абсолютной повторяемости нет, трудно уловить закономерности; частью его является субъект; происходит не только познание, но и оценка объекта); б) в специфической роли субъекта (познание происходит через призму ценностей, интересов, целей, обусловливающих действия субъекта); в) в осознанном целеполагании субъекта (получить такое знание, с помощью которого можно не только объяснить, но и оправдать, укрепить (осудить), изменить общественные институты и отношения). В результате пришло осознание, что не существует такой научной парадигмы, которая объясняла бы социальную реальность (а во многом и природную) исчерпывающим образом. Любая социальная теория - это модель, которая существенно упрощает социальную действительность, между ними всегда есть «зазор», который находится вне объяснительных возможностей этой модели.
Поэтому возможно много моделей и методологий, которые вполне работают в социально-гуманитарном знании1 , но не могут претендовать на статус единственной объяснительной парадигмы. В значительной мере такому пониманию и переоценке ценностей способствовали эпистемологический анархизм П.Фейерабенда и философские интуиции родственного ему постмодернизма. Согласно постмодернизму, ценностям антропои европоцентризма, как и вообще ценностям доминирования целого над частью и части над целым должен прийти конец. Это - ацентризм, т.е. отрицание привилегированных центров доминирования (Земли - в космосе, Запада - на Земле, мужчин - над женщинами, взрослых - над детьми и т.д.). Отвергается идеология и практика властвования, доминирования, насилия, войны - в пользу плюрализма, диалога, дискурса, совместного поиска решений, мира, согласия, основанных, однако, на неизбежных рассогласованиях и разногласиях. Постмодернизм прощается со всеми формами монизма, унификации, тоталитаризации, деспотизма. Вместо этого он переходит к идее множественности, разнообразия, конкуренции парадигм, к сосуществованию разнородного, гетерогенного. Постмодернизм начинается там, где кончается целое. Он против тоталитаризации - в архитектуре против монополии интернационального стиля, в политике - претензий на господство. Постмодернизм использует конец «единого» и «целого» в позитивном смысле, разворачивая «многое».
Это - ядро постмодернизма, который радикально плюралистичен, но не потому, что поверхностен или безразличен, а потому что осознает непреходящую ценность различных концептов и проектов. Несмотря на повсеместную серьезную психологическую усталость от постмодернизма и «сопротивляющуюся» ему реальность, эти его достижения отменить уже невозможно. В естествознании большую роль играет эксперимент, дающий объективный результат подчас независимо от целей исследователя; распространена установка на беспристрастное отношение к объекту и результатам исследования (хотя в неклассической и постнеклассической науке это уже практически невозможно). В социально-гуманитарном познании, где есть ценностное отношение субъекта к объекту, иная ситуация: объект не только познается, но одновременно и в первую очередь оценивается. В процедуре оценивания, в выборе целей и идеалов ярко выражены неопределенность, воля, избирательная активность субъекта, его приоритеты, которые могут включать и интуитивные, иррациональные и прочие моменты.
На фоне и в контексте этих и других гигантских изменений в естествознании и социально-гуманитарном знании и родилась теория «управляемого хаоса». Повторим еще раз - изначально, судя по всему, не преследовалась цель использовать ее кому бы то ни было во вред. Даже созданный в 1984 году Институт в Санта-Фе (США), связываемый с разработкой теории «управляемого хаоса» применительно к социальной реальности, был именно научным и назывался Институтом сложности, а основала его группа ученых, среди которых был лауреат Нобелевской премии автор теории кварков М. Гелл-Манн. Цель института - междисциплинарные исследования фундаментальных свойств сложных адаптивных систем, включая физические, математические, биологические и социальные. Более того, важнейшим условием существования этого Института стала его аполитичность. Здесь традиционно не проводятся исследования с политической окраской, которые могут сузить круг партнеров Института или лишить его дополнительного финансирования (впрочем, впоследствии, ситуация несколько изменилась). В компании IBM (США) в 1970-1980-е гг. успешно практиковалась «контролируемая анархия» (почти «управляемый хаос») как система управления. Иногда ее именовали «корпоративная анархия». Культура перманентных реорганизаций в компании была институализирована и ориентирована на перманентное изменение, перетасовывание структуры организации, усиление ее или удаление из нее лишнего, предоставление возможности множеству людей расширить свой профессиональный опыт: «…Подбрасывая в воздух все карты, удается избавиться от «слипаний», которые неизбежно накапливаются в любой организации, в т.ч. решить проблему выявления сотрудников, достигших уровня собственной некомпетентности…, и обеспечить возникновение новых инициатив»2 . Более того, в IBM сложился институт «фиксеров» - специалистов, рассеянных среди служащих компании, имеющих большой опыт работы в ней и настолько гибких и раскованных, что это «граничит даже с неприкрытой циничностью в отношении к жизни внутри ИБМ, часто дополняемой почти «кровожадным» удовольствием от нанесения ударов по системе»3 . Иначе го-
воря, это «дикие утки», с которыми руководству жить неудобно, поскольку они выискивают слабые места системы, но значение которых для благополучия компании признается неоценимым. Если таких людей в компании нет, это имеет чаще всего для нее ужасающие последствия. Теория управляемого хаоса сформировалась прежде всего как научная теория и была ориентирована на то, чтобы человечество могло извлечь из нее пользу, как и из любого открытия. Посмотрим, в чем могла бы состоять эта польза.
Концептуальное содержание теории «управляемого хаоса»
Как известно, любое знание и технология могут быть использованы как во благо, так и во вред людям. Это обстоятельство распространяется и на теорию «управляемого хаоса», поскольку она в высокой степени технологична и эффективна. Содержательно теория «управляемого хаоса» исключительно эвристична и перспективна. Как ни странно, наиболее адекватно позитивное содержание сформулировал Стивен Манн, имя которого ассоциируется с практическим и чрезвычайно злонамеренным использованием теории управляемого хаоса в интересах США по всему миру. Именно по причине этой злонамеренности вместе с грязной водой выплеснули и «здорового ребенка». Если коротко, то позитивное содержание теории «управляемого хаоса» состоит в следующем. Сложные неравновесные нелинейные системы (общество, человек, культура, экология, история, политика, экономика, духовная жизнь, международные отношения, большинство организаций и многие другие) подчиняются принципу самоорганизующейся критичности. Суть последней - в том, что эти системы естественным образом эволюционируют до критической стадии, на которой незначительное событие вызывает цепную реакцию, способную затронуть многие элементы системы. Хотя сложные системы производят больше незначительных явлений, чем катастроф, цепные реакции любого масштаба являются интегральной частью динамики. Механизм, приводящий к незначительным событиям - тот же, который приводит и к масштабным событиям.
Сложные системы никогда не достигают равновесия, а развиваются от одного метастабильного (временного) состояния к другому, в которых о порядке можно говорить очень условно. Если говорить о социуме, то ситуация как в любой стране, так и в глобальном масштабе скорее описывается концепцией постоянной критичности. Положение дел в международных отношениях, политике, экономике, экологии сложно, динамично и постоянно изменяется, действует много субъектов и игроков. Мир является скорее ареной кризиса, в высокой степени хаотичного, нежели пространством порядка. Возникает вопрос: существуют ли хаос и самоорганизованная критичность в качестве действительных принципов, определяющих поведение сложных открытых систем, или мы имеем дело с ощущениями и метафорами? Вероятнее всего, этот процесс является реальным, а не кажущимся. Очевидно, что действия социальных субъектов, международных игроков являются реальным проявлением хаотической обстановки, и во взаимодействии большого количества таких субъектов и игроков с высокими степенями свободы отчетливо просматривается самоорганизующаяся критичность в страновом, региональном и международном масштабе. Согласно теории хаоса и представлениям о самоорганизующейся критичности устойчивая (пусть относительно) структура и стабильность находятся внутри самой видимой беспорядочности и нелинейных процессов. Это составляет суть происходящих изменений, и для социальных субъектов и игроков жизненно важно это понимать.
Это важно с технологической точки зрения (новые принципы ведут к появлению новых технологий), но еще важнее с точки зрения изменения характера «концептуальности» и «стратегичности» мышления, которое во многом еще находится во власти классических механицистских представлений о мире (однозначный детерминизм, линейные причинноследственные ряды и т.д.). В то время как мир становится все более сложным и трудно предсказуемым, доминирование в мировоззрении и мышлении традиционных объяснительных парадигм ведет ко все более увеличивающимся расхождениям между реальностью и пониманием. С.Манн открыто говорит, что мы уже не в состоянии не то что объяснить, но и описать во всей полноте и разнообразии, например, наше международное окружение в традиционных терминах «баланса силы», «полярности» или «сдвига тектонических плит» (например, распад СССР), т.е. в рамках традиционной механицистской картины мира. «Ежедневные заголовки газетных статей неприятно напоминают, насколько сверхупрощенными являются эти модели»1 .
Теория хаоса в естествознании основывается на четких принципах: - описывает и объясняет процессы в динамических системах - системах с большим количеством подвижных компонентов; - внутри этих систем существует непериодический порядок, по внешнему виду беспорядочная совокупность данных может поддаваться упорядочиванию в разовые модели; - подобные «хаотические» системы показывают тонкую зависимость от начальных условий; - небольшие изменения каких-либо условий на входе ведут к дивергентным диспропорциям на выходе; - тот факт, что существует порядок, подразумевает, что модели могут быть рассчитаны, как минимум, для более слабых хаотических систем2 . Иначе говоря, если классический подход описывает линейное поведение отдельных объектов, то теория хаоса описывает статистические тенденции большого количества взаимодействующих объектов и факторов.
Эта теория дает новые основы и принципы концептуально-стратегического мышления, что обеспечивает преимущества по всему возможному спектру его применения - политика, экономика, промышленность, технологии, международные отношения, аэронавтика, военное дело, разведка, экология, информационная теория, медицина, метеорология, криптология и многое другое. Во всех этих областях оказывается возможным построение математически регулярных моделей нелинейных систем, моделирование нестабильных турбулентностей, получение новых эффектов, изменение методов, обнаружение паттернов в несравнимых социальных явлениях (например, уровень цены на хлопок и распределение национального дохода) и т.д. Теорию хаоса удачно иллюстрируют некоторые метафоры. Так, аналитики IBM применяют метафору «песочной кучи».
Песчинки могут складываться одна к одной до тех пор, пока в результате критического состояния последняя не создаст лавину. После такого катастрофического перераспределения система (песчаная куча) становится относительно стабильной до тех пор, пока не происходит следующая перегруппировка. Применительно к корпорации это означает, что целесообразно сознательно и мягко обрушить лавину, не дожидаясь момента, когда ситуация сама по себе станет неуправляемой. Похожие практики используют при обрушении снежных лавин в горах. Ряд метафор существует в политической науке. Так, распространенным является представление международного кризиса в качестве «пороховой бочки». Идея пороховой бочки как взрывоопасного объекта, ожидающего поднесения спички, удачно передает динамическую природу международных отношений. Иллюстративной является метафора «спелости» применительно к международным переговорам различного характера: некоторые дискуссии и встречи невозможны до тех пор, пока не пройдет определенное время и они не «созреют» (психологически, содержательно, технологически т.д.).
Следовательно, ключ к переговорам лежит в определении и эксплуатации этого критического состояния. Эти возможности теории хаоса позволяют перейти на более высокий уровень ее понимания и, соответственно, от наблюдаемого и неконтролируемого хаоса к управляемому. Настоящая ценность теории хаоса находится на высшем уровне - в сфере мировоззрения и концептуально-стратегического мышления. Теория хаоса меняет подходы и методы, с помощью которых можно рассматривать весь спектр человеческих взаимодействий, в котором противостояние, война занимают далеко не все пространство. Международная среда и глобальная политика - убедительный пример хаотической системы. Одно из ключевых понятий теории хаоса - «самоорганизующаяся критичность» - весьма эффективно в качестве средства научного анализа. Оно, напомним, позволяет понять, что большие интерактивные системы в процессе развития постоянно доводят себя до критического состояния, в котором небольшое событие может запустить цепную реакцию, способную привести к катастрофе. Однако все же такие системы производят больше небольших событий, чем катастроф, а цепные реакции всех размеров являются инвариантом динамики. Кроме того, такие системы никогда не достигают равновесия, но наоборот, эволюционируют от одного метасостояния (т.е. временного состояния) к следующему.
Феномен «самоорганизующейся критичности» показывает огромное количество объектов, факторов и субъектов в турбулентно-критическом состоянии, которое неизбежно эволюционирует в сторону временной стабильности после катастрофической трансформации. И вообще сама критическая точка зрения на любой хаос является частью объясняемого процесса. Применительно к международным отношениям и глобальной политике традиционная модель способна привести к переоценке влияния субъекта на события и обесценить все возникающие перед ним возможности. Парадигмы хаоса и критичности, наоборот, освещают диспропорционные эффекты, которые могут спровоцировать небольшие игроки и которые способны привести к неожиданным и нежелательным результатам, если ими (эффектами) не управлять. Теория хаоса утверждает, что всякие отклонения заложены в природе сложной системы и являются самоорганизующимися, т.е. они производятся самой динамической системой. Сложная система всегда включает в себя факторы, которые толкают ее за пределы стабильности - в турбулентность и переформатирование. Традиционный механицистский взгляд поощряет искать причины главных изменений в системе во внешних факторах.
Согласно теории хаоса и несколько забытой диалектике внутренние факторы трансформации всегда более значимы для системы, нежели внешние. Поэтому всевозможные внешние санкции, падение цен на сырьевые ресурсы не могут оправдать внутреннюю неэффективность сложной системы и управления ею. Система работает в сторону главного изменения как результат небольших, в основном игнорируемых событий. В свете сказанного иллюзией оказывается вера в возможность абсолютной стабильности и порядка. В международных отношениях и глобальной политике (как, впрочем, и во всех других сферах) всякая стабильность и порядок преходящи. Международные отношения представляют собой динамическую систему, состоящую из субъектов - государств, союзов, коалиций, наций, религий, политических движений, экологий, которые сами по себе являются динамическими системами. Что дает теория хаоса? Она позволяет понять, что целесообразно и вполне реально обеспечить не столько жесткий порядок и стабильность, сколько мягкий (стимулирующий развитие), а не катастрофический сдвиг в системе (способный ее разрушить). Иначе говоря, вряд ли следует ожидать, когда нависшая «снежная лавина» сама свалится в неизвестный момент в неизвестном месте и причинит разрушения, лучше предупредить этот момент и осознанно-управляемо обрушить ее с минимальными потерями тогда, когда она еще не набрала всей своей силы и опасной непредсказуемости.
Применительно к социальным системам и процессам, международным отношениям и глобальной политике настоящей целью является формирование такого контекста вопросов безопасности, который направлен на достижение не столько жесткого порядка и нерушимости правил, сколько на обеспечение постепенного, а не разрушительного сдвига. Теория управляемого хаоса предоставляет такие научные основы и возможности, которые позволяют объяснить и понять многочисленные турбулентности и беспорядок в этом мире. Четкое описание того, что нас окружает, дает, в свою очередь, возможность таких стратегий, в которых заложены и учтены интересы разных субъектов, акторов и игроков. Теория управляемого хаоса в интерпретации С. Манна определяет ряд факторов, формирующих характер критичности. Это прежде всего: а) изначальная форма (контуры) системы; б) структура (матрица) системы; в) единство субъектов (акторов) - эффективное единство замедляет нарастание критичности, неэффективное - создает иллюзию того, что переустройство находится под эффективным контролем и управлением; г) энергия конфликта индивидуальных акторов (она должна быть снижена). Учет этих факторов позволяет сделать хаос феноменом, который поддается управлению. Как следствие теория «управляемого хаоса» приобретает инструментальный характер.
Четкая репрезентация реальности, которая есть и которую предстоит сформировать, позволяет не просто согласовать цели со средствами, но и связать их со стратегическими вызовами и выработать более дееспособные принципы стратегии, чем те, которыми мы пользуемся сейчас. Речь также об установлении и понимании факторов, которые обусловливают динамику, что позволит более точно работать над трансформацией любой системы. Теория управляемого хаоса ориентирует на то, что в современном турбулентном мире невозможно избежать неразрешимых парадоксов. Пример - ядерное сдерживание: угроза разрушения ради сохранения.
Еще нюанс: как мы только достигнем стратегических основ, которые логически последовательны и представляют собой якобы всестороннее предсказывающее описание турбулентного процесса, парадоксальным образом мы больше не сможем полностью доверять этим основам (а они неизбежно включают ограничения, которые однажды будут преодолены), поскольку реальность обязательно «подбросит» материал, не вписывающийся в эти основы. Таким образом, теория хаоса представляет собой мощное, сильное интеллектуальное средство, вполне соответствующее современному состоянию науки и позволяющее разработать адекватные ответы на вызовы времени, вести реалистичную политику и существенно подвинуть в стратегическом мышлении значимых субъектов рецидивы механицистского мышления. Она может быть использована для согласованных превентивных действий в противостоянии негативному развитию событий, общим вызовам и угрозам, для развития всей системы внутригосударственных, региональных и глобальных связей и процессов. Качественный скачок в этом направлении может быть громадным. Для этого необходима единая и позитивная политическая воля, скоординированные действия всего мирового сообщества и ведущих субъектов и игроков. Однако именно последнее оказывается самым трудным делом.
Теория «управляемого хаоса»: использовать во благо или во вред? Авторы теории управляемого хаоса являются представителями западной науки и социальной мысли. Это обстоятельство немедленно отразилось на их интенции перевести эту теорию на уровень технологии и использовать в интересах Запада, прежде всего США, и, соответственно, в ущерб значительной части остального мира, особенно тех, кто подвергает сомнению исключительную субъектность США.
Собственно, этот факт политической ангажированности и не скрывается. Технологии использования теории управляемого хаоса многократно и в большом объеме описаны в научной и публицистической литературе по всему миру. В России об этом много писали С. Кургинян, А Дугин, А. Фурсов А. Неклесса и другие авторы. Теория управляемого хаоса была вставлена в более широкий контекст борьбы Запада со всем остальным миром, психоисторической войны, у истоков которой стояли аналитики ЦРУ еще с конца 1940-х гг. Были выявлены многочисленные центры, которые профессионально разрабатывали не только научные основы теории управляемого хаоса, но и технологическую сторону ее применения - РЭНД Корпорейшн, Freedom House, Институт сложности Санта Фе, Национальный фонд в поддержку демократии и т.д. Политическая и международная практика показала огромные возможности этой теории - распад СССР, ситуация в Ираке, Афганистане, на Ближнем Востоке, цветные, оранжевые и другие революции в Югославии, Тунисе, Алжире, Грузии, Киргизии, Египте, Ливии, на Украине, а также феномены Талибана, Аль-Кайды, ИГИЛ, «правого сектора» на Украине и т.д.
Во многих этих и других случаях вполне «управляемо» посеян хаос, который затем, однако, стал далеко не управляемым. К слову, издержки этого хаоса нередко обращаются против самих «хаотизаторов», когда он «заходит» в их пространство, не «спрашивая» собственных творцов (террористическая атака на США 11 сентября 2001 г., убийство посла США в Ливии 11 сентября 2012 г., взрыв в Бостоне при проведении марафона 15 апреля 2013 г., нападение на французский еженедельник «Charlie Hebdo» 7 января 2015 г., террористические акты в Париже в ноябре 2015 г. и т.д.). Откуда взялись резко негативные и нередко преступные практики использования теории «управляемого хаоса»? Каковы причины такого использования? Во-первых, повторим, абсолютно любая технология может быть использована не только на пользу, но и во вред человеку.
Во-вторых, для поддержания выгодного для себя статус-кво Западу и особенно США уже не хватает прежних средств и возможностей, особенно военно-силовых. Ноша мирового полицейского стала неподъемной. Базы по всему миру содержать дорого, воевать и терять солдат и офицеров не хочется - электорат не поймет. К тому же есть субъекты и игроки, которые в экономическом и военном отношении составляют самую серьезную конкуренцию - Китай, Россия, Индия. Есть и другие страны и силы, которых устройство мира в пользу Запада не устраивает.
Поэтому такое устройство постоянно подвергается испытанию, и Запад прекрасно это осознает. Чтобы сохранить свое преимущественное положение, Западу и его лидеру США необходимо действовать на опережение, использовать не только военно-силовые подходы - на это может не хватить сил и средств - но и новые методы, в т.ч. теорию управляемого хаоса. Те, кто послушны и лояльны по отношению к США, могут рассчитывать на относительно спокойное существование, хотя бы и ценой разрушения собственной промышленности и конкурентоспособных отраслей , утраты возможности проводить независимую политику. Атака хаосом проводится на тех, кто: 1) проводит независимую политику и составляет Западу и США серьезную конкуренцию; 2) располагает значимыми сырьевыми ресурсами; 3) занимает выгодное геополитическое положение. Соответственно США нуждаются в строительстве опорных площадок для системы управления турбулентными процессами на планете, которая практически уже пришла на смену прежней структуре международных связей (сегодня такими опорными площадками являются Афганистан, Ирак, Ближний Восток, особенно Сирия, Северная Африка, Украина). Такая система становится глобальной, ее характерные черты - динамичность, гибкость, нестационарность. Таким образом, стремление Запада сохранить свое выгодное и преимущественное положение в мире - главная причина использования теории управляемого хаоса. Для легкого камуфляжа используется доктрина распространения в мире «демократии как власти народа» и ее непреходящих ценностей, а также прав человека.
Фактически в стране-реципиенте инициируется раскол и междоусобица, формируются прозападные и антигосударственные центры влияния, вливаются деньги (огромные, но все равно меньшие, чем если бы пришлось воевать), работают враждебные СМИ. В обстановке такого «управляемого хаоса» под флагом «демократии» совершается «оранжевая» или «цветная революция», к власти приводится прозападное правительство. Неизбежные жертвы среди мирного населения при этом инициаторов не беспокоят. В технологическом плане управляемый хаос зиждется на четырех принципах, выведенных центрами, которые этим занимаются (РЭНД Корпорейшн, Freedom House, Институт сложности Санта Фе (США) и другие глобальные организации): 1) использование последних технологий (Интернет, мобильные телефоны, социальные сети) и мобильных инициативных групп, экспрессивный и скоротечный характер действий; 2) объединение усилий всех оппозиционных сил против политического режима и персонально его лидера; 3) формирование «агентов влияния», в т.ч. в силовых структурах и госаппарате, которые, стремясь к деньгам, власти или под угрозой международного трибунала могут обеспечить смену режима; 4) формирование стихийных «безлидерских» движений, объединяющих представителей разных слоев населения, недовольных властью. В назначенный день они выводятся на улицы для участия в массовых акциях. Технология управляемого хаоса оказывается весьма эффективной, с ее помощью можно превентивно регулировать негативное развитие событий.
Но - только в интересах США и Запада в целом. Хотя появляются признаки того, что эту технологию способны использовать и геополитические соперники США. Обратной стороной глобального использования управляемого хаоса в интересах США становится умножение числа неурегулированных конфликтов по всему миру, хаотизация системы международных отношений, вакуум права. В результате в мировой политике появляются новые игроки, для которых существующие институты публичной политики и демократии утрачивают прежнее значение. Однако такое умножение количества новых акторов мировой политики для США выгодно, поскольку их практическая незначительность по сравнению с США позволяет проводить древнюю политику «разделяй и властвуй», сеять между ними раздоры, играть на противоречиях, обращать в своих союзников и наказывать отступников т.д.
Для всего остального мира технология управляемого хаоса оказывается преимущественно деструктивной. Какие выводы следуют из сказанного? Для большинства российских исследователей и политиков факт действительной политической ангажированности авторов теории «управляемого хаоса», в частности, С.Манна, оказался настолько значимым, что за их возмущенными реакциями оказалось скрытым её научно-эвристическое содержание и объяснительные возможности. Вместо того чтобы максимально объективно взглянуть на эту теорию как на средство, способное содействовать качественному улучшению государственного и вообще любого управления в стране и решению множества внутренних и внешних проблем, она была воспринята как очередное дьявольское и злонамеренное изобретение, технология, созданная в недрах Госдепартамента и ЦРУ США для эффективного противодействия их геополитическим противникам.
В значительной мере так оно и есть. Однако практически не было принято во внимание, что теория «управляемого хаоса» является прежде всего теорией, а уж затем - программой конкретных действий. И это при том, что усилиями В.Степина и других исследователей в отечественном научном сообществе утвердилась концепция неклассической и постнеклассической науки, которые, не отменяя классической науки, принципиально отличаются от нее своими онтологией, эпистемологией, методологией и, казалось бы, недвусмысленно говорят о сложности, нелинейности, неравновесности этого мира и его процессов. Однако, как и во всей отечественной действительности, эта концепция фактически не вышла за рамки наук, например, в политику, экономику, военную мысль, другие сегменты отечественной культуры и практики либо вышла довольно ограниченно. Это и сказалось на подобном же восприятии методологически близкой ей теории «управляемого хаоса».
Истинна эта теория или ошибочна - другой вопрос. Трудность состоит в том, что практически никто в России не размышляет над тем, насколько и в самом деле управление осуществляется в современном мире посредством «гомеопатического» усиления хаоса (энтропии) для обеспечения «мягкого сдвига» в системе. Хотя теория управляемого хаоса далеко не безупречна (таковая в принципе невозможна), научный потенциал в ней заложен огромный. Но в России он осознан слабо.
Понято лишь, что Запад с помощью «управляемого хаоса», «мягкой силы», «гибридных войн» угрожает России. Это в высокой степени так, и то, что авторы теории готовы размышлять и действовать таким образом, чтобы эта теория была преобразована в эффективную технологию и проносила пользу США, Западу в целом и наносила вред их оппонентам, не может вызывать благодушного настроения и приятного выражения лица. Но это не все содержание теории управляемого хаоса. Важнее другое - то, что феномен управляемого хаоса отражает природу социального и может быть поставлен ему на службу в интересах общества и людей. С.Манн предлагает «изменить метод, который мы используем для осмысления стратегии».
То, что С. Манн и другие западные исследователи фактически проделали теоретическую работу, которую могли бы проделать отечественные ученые и это сделало бы им честь (потому что работало бы на страну), отчасти можно считать благом для России, поскольку, во-первых, у них (авторов теории) с языка сорвалось и нам стало известно то, о чем можно было бы и помолчать, раз уж это столь эффективная технология, а во-вторых, благодаря этому мы в очередной раз можем срезать исторические углы и противостоять сопернику с помощью его же собственного оружия, если, конечно, сумеем извлечь уроки и быстро научимся выводам, которые из них следуют. Хаос относится ко всему спектру человеческих взаимодействий, в котором противостояние и война занимают лишь его часть и не составляют всей сути теории «управляемого хаоса».
А вот вся социальная среда и ее сегменты являются очевидными примерами хаотических систем. Поэтому теорию управляемого хаоса просто необходимо взять и использовать в отечественной практике, как до этого взяли другие западные социальные теории и практики (марксизм, либерализм, социологические исследования, теорию постиндустриального общества, поп-культуру, джаз, постмодернизм, футбол, пляжный футбол, черные политтехнологии, гибридные войны и т.д.), не слишком комплексуя по этому поводу. Использование Западом синергетических моделей против России не должно служить оправданием низкого качества управления в стране на всех уровнях, удручающих провалов в работе тех людей, которые берутся управлять чем-либо, не имея к этому ни малейших предпосылок (ситуация, предельно широко и масштабно распространенная в России).
На теорию следует отвечать концептуально, а не сваливать вину за политические неудачи и глупости на И. Пригожина, И. Стенгерс, Г. Хакена, С. Манна. Теорию управляемого хаоса можно критиковать, но, поскольку она очевидно трансформируется в технологию, ее надо использовать в своих интересах как внутри страны, так и в международных отношениях и глобальной политике.
Список литературы
1. Агеев А. Сокровища Санта-Фе // Экономические стратегии. - М., 2008. - № 4.
2. Лепский В.Е. Онтологии субъектно-ориентированной парадигмы управления и развития // Рефлексивные процессы и управление. Сб. материалов VI Международного симпозиума 10-12 октября 2007 г., Москва / Под ред. В.Е. Лепского. - М., 2007. - С. 59-61.
3. Лепский В.Е. Технологии управляемого хаоса - оружие разрушения субъектности развития // Сайт С.П. Курдюмова, 2003-2013.
4. Малинецкий Г.Г. Хаос. Структуры. Вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику. - М., 2001.
5. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент. - М., 2005.
6. Малинецкий Г.Г. Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды. - М., 2006.
7. Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление. - http://spkurdyumov.ru/what/mann/ 8. Мерсерер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира. - М., 1991. 9. Перкинс Д. Исповедь экономического убийцы. - М., 2007. 10. Сундиев И. «Управляемый хаос». Социальные технологии в массовых беспорядках // Свободная мысль. - М., 2013. - № 4.
Никто не может предсказать будущее.
Никто не может влиять на будущее.
Значит никто не может управлять будущим.
Но это не значит, что не хочет управлять. Что такое управление событиями? Это значит, что мы ставим цель и хотим сделать так, чтобы она сбылась. Достигнуть её. Спровоцировать какие-то события для её достижения. Запустить волну.
Есть три способа что-то делать (точнее, три способа восприятия этих действий):
– Мы строим. Строим, строим, строим. Потом оно разрушается. Чем больше мы строим – тем больше у нас дыр и трещин, которые нужно заделывать. Это самый простой, тупой и линейный подход.
– Мы выращиваем. То есть мы раздобыли где-то зернышко, удобрили почву, поливаем, ухаживаем… Вырастет или нет – от нас не зависит. Но мы понимаем цикличность, фазы луны и прочее.
– Мы сёрфим. Ловим волну, оседлываем её и отдаемся на волю потоку. Волна может иссякать или поворачивать туда, куда нам не нужно. Тогда мы перепрыгиваем на другую. Но контроля над волнами у нас нет. Это самый скоростной способ.
При этом мы жёстко не привязываемся к инструменту, который используем. Как говорил Вилли Фог: “Используй то, что под рукою. И не ищи себе другое” . На этом принципе (или ментальной модели, если угодно) основана куча всего – от систем рукопашного боя (вроде системы Ферберна, где неважно, что подвернулось под руку, если знаешь принцип – можешь использовать что угодно) до “теории управляемого хаоса”.
Теория управляемого хаоса
Термин “управляемый хаос” (теория или как её еще называют – стратегия) последние несколько лет на слуху. Но как и в случае с теорией систем, мало кто задумывается, а что это такое на самом деле.
Что это и о чем это? Это, как вы могли уже догадаться, о волнах. Когда говорят, что США что-то там инициировало в мире и запустило волну очередных “цветных революций” (вроде “Арабской весны”), то почему-то подразумевают, что это готовилось и этим управляли. На наш взгляд тут не столько управление (как можно управлять будущим?), сколько “оседлание волны”. Оседлание возможно за счет двух действий:
– плана развития событий
– импровизации на месте
План развития событий – это наличие запасного плана, “Плана Б”. То есть это набор инструкций и чек-листов, которые нужно применить, если ситуация будет развиваться вот таким образом. Чем больше планов – тем выше шанс на успех оседлания волны.
Если есть запасной план, то провала у тебя не может быть в принципе. На этом построено “Достигаторство” у Гагина и его учеников. На этом же основаны планы защиты и обороны любого военного объекта, которые заставляют заучивать караульных (если нападение на КПП – первый пост бежит туда, второй пост туда, дежурный сюда, нач.караула вон туда. Сектора обстрела у всех такие, такие и вот такие).
В таком раскладе мы не можем управлять будущим, но мы готовы к нему.
Импровизация – это сложно и ненадежно. Это . Это дает нестабильные результаты. Но те результаты, которые случаются в процессе импровизации зачастую намного лучше по эффекту, чем работа по заранее подготовленным планам.
То есть тут мы не знаем, на какую волну мы перепрыгнем и будет ли еще какая-то волна, но по ситуации всегда будет более яркое понимание, куда именно нам нужно будет прыгать.
Поэтому те же американцы не любят импровозировать (зато у русских это сплошь и рядом).
Управляемый хаос на практике в повседневной жизни
На наш взгляд запустить волну всё таки можно. Другой вопрос, что этой волной не получится управлять.
В обыденной жизни запускают волны либо от безысходности, либо от зуда в жопе. Но в том и другом случае для того, чтобы раскачать сложившуюся обстановку, раскачать своё окружение, сменить состояние, а не с целью дальнейшего управления волной.
Посыл первого случая: “Будь что будет, уже пофигу. Нечего терять”
.
Посыл второго: “Интересно, а что будет, если…”
И если волна уже запущена – управлять ей невозможно. Просто потому, что непонятно, куда и как она пойдет.
Тут мы приходим к интересной вещи: управление – это фактически и их достижение.
Оседлание – это просто жизнь в соответствии со своими интересами (как это называет Альтушер – Themes).
Если сейчас волна несет в сторону моих интересов – оседлываю.
Если волна поворачивает в сторону от интересов – спрыгиваю/перепрыгиваю.
Получается, что это уже вполне себе методология выживания в хаосе.
При этом оседлание вполне себе сформулировали в том же “достигаторстве” – тупо всегда должен быть как минимум один запасной план (Б), а в идеале и другие (В, Г, Д…). Чем больше у тебя запасных планов – тем тяжелее тебя свалить. Ты становишься как вода (что опять же криптодаос Альтушер возвел в абсолют и упростил: “у тебя будет бесконечное количество запасных планов, пока у тебя есть интересы”).
То есть, если мне нравится прямой маркетинг, то мне равнофиолетово, в какой момент времени что именно я делаю или изучаю в прямом маркетинге ( , да). Потому что интерес мой. Куда ни приложи силу – движение идет по всему фронту.
Я давлю на один маленький участочек, а в итоге работаю на приближение всех моих целей, потому что они связаны одним интересом – прямым маркетингом.
Или, как это художественно описано у Нила Стивенсона в “Лавине”:
Он каким‑то образом перебрался на побережье Сибири, вероятно, поймал волну на своем треклятом каяке.
- Поймал волну?
- Так алеуты добираются от одного острова к другому.
- Ворон - алеут?
- Ага. Алеутский китобой. Знаете, кто такие алеуты?
- Ну да. Мой отец знал одного в Японии, - говорит Хиро. В памяти Хиро начинают оживать старые отцовские басни о лагерях военнопленных, медленно пробиваясь на поверхность из глубокого‑глубокого хранилища.
- Алеуты гребут одним веслом, ловят на каяках волны. Могут даже обогнать пароход.
…
- Они не позаботились организовать жесткую охрану периметра, - говорит Хиро, - потому что Япония - остров. Даже если узники сбегут, куда им податься?
- А ведь алеут мог сбежать, - возражает Ворон. - Он мог бы добраться до ближайшего побережья и там смастерить себе каяк. В этом каяке он мог бы подняться вдоль побережья Японии, а потом перебираться на волне с одного острова на другой до самых Алеутских островов.
- Верно, - соглашается Хиро, - вот этого‑то в отцовской истории я никак не мог понять. Пока не увидел тебя в открытом море, не увидел, как ты на каяке обгоняешь скоростной катер. Тогда все сошлось. Твой отец не сошел с ума. У него был совершенно здравый план.
Управление - осознанная деятельность, связанная с воздействием субъекта управления на объект управления с целью достижения определенных результатов.
Управлени е- целенаправленное воздействие.
Управление как система включает в себя управляющую и управляемую подсистемы, называемые соответственно, субъектом и объектом управления.
Теория управления - междисциплинарное научное направление, включающее в себя социологию управления, экономику, философию, психологию, политику как искусство управления гос-вом, менеджмент как науку и искусство управления организацией, теории систем (кибернетику, синергетику, теорию рефлексивных систем..)
Объект управления- управленческие отношения.
Эффективность управления зависит не только от профессиональной компетентности руководителя, но и от его психологической подготовки в области управления - психологической культуры управления. Управление является важным ресурсом общества. По мнению Питера Дракера, исторические успехи человечества на 80% определяются не природными ресурсами и технологиями, а эффективностью управления.
Предмет теории управления – сущность управленческих отношений как системы взаимодействия людей по поводу организации их совместной жизни.
Механизм управления различными социально-экономическими системами и их регулирование.
Механизм самоорганизации
Технологии и методика
Структурные элементы системы управления
Принципы, методы управления.
Управление как наука представляет собой систему знаний в виде концепций, теорий, принципов, способов, форм и школ управления.
Управление как искусство - это способность умело и эффективно применять на практике теоретические основы управления, разработанные в рамках научного знания.
Управление как функция может рассматриваться как целенаправленное воздействие на сознание и поведение людей, осуществляемое с целью направить их действия на достижение желаемых целей.
Управление как процесс - это совокупность управленческих действий, направленных на достижение поставленных целей.
Управление как аппарат - совокупность структур и людей, обеспечивающих использование и координацию всех ресурсов социальных систем для достижения определенных целей.
Управленческая парадигма – система взглядов на управление, вытекающая из основополагающих идей и научных результатов крупных ученых.
Функции управления :
Планирование – определение целей и показателей деятельности объекта управления в будущем, а также поставка задач и оценка необходимых ресурсов.
Организация - назначение рабочих задач, их конкретизация в отделах компании и распределение ресурсов между ними.
Руководство(мотивация ) – использование влияния руководителя для мотивации работников к достижению целей.
Координация – согласование различных процессов и операций.
Контроль - наблюдение и внесение необходимых изменений.
Школа научного управления. Ф. Тейлор, г. Форд
Возникновение современной науки управления относится к началу XX в. и связано с именами Ф.У. Тейлора. Важной заслугой этой школы было положение о том, что управлять можно «научно», опираясь на экономический, технический и социальный эксперимент, а также на научный анализ явлений и фактов управленческого процесса и их обобщение. Этот метод исследования впервые был применен к отдельно взятому предприятию американским инженером Ф.У. Тейлором, которого следует считать основоположником научного управления производством. Термин «научное управление» впервые был предложен в 1910 г.
Идеи Ф. Тейлора были развиты его последователями, среди которых в первую очередь следует назвать Генри Гантта, наиболее близкого его ученика. Гантт внес значительный вклад в разработку теории лидерства.
Френк Гилбрет и его супруга Лилиан Гилбрет занимались вопросами рационализации труда рабочих и исследованием возможностей увеличения выпуска продукции за счет роста производительности труда.
Значительный вклад в развитие системы Тейлора внес Г. Эмерсон. Эмерсон исследовал принципы трудовой деятельности применительно к любому производству независимо от рода его деятельности.
Генри Форд продолжил идеи Тейлора в области организации производства. В системе Тейлора центральное место занимал ручной труд.
Форд заменил ручной труд машинами, т.е. сделал дальнейший шаг в развитии системы Тейлора.
В основе тейлоризма лежит 4 научных принципа.
1. Детальное научное изучение отдельных действий и проведение экспериментов с целью установления законов и формул для наиболее эффективной работы «со строгими правилами для каждого движения», каждого человека и усовершенствования и стандартизации всех орудий и рабочих условий.
2. Тщательный отбор рабочих «на основе установленных признаков», их обучение «до первоклассных рабочих» и «устранение всех людей, отказывающихся или не способных усвоить научные методы».
3. Осуществление администрацией сотрудничества с рабочими, «сближение рабочих и науки… на основании постоянной и бдительной помощи, управления и выплаты ежедневных прибавок за скорую работу и точное выполнение заданий». Тейлор говорил о необходимости этого, например, в области стандартизации, использования новых орудий.
4. «Почти равное распределение труда и ответственности между рабочими и управлением». По мысли Тейлора администрация берет на себя те функции, «для которых она является лучше приспособленной, чем рабочие». Специальные агенты администрации в течение всего рабочего дня работают с рабочими, помогают им, устраняют помехи в работе, ободряют рабочих.
Тейлор пришел к важному выводу, что главная причина низко производительности кроется в несовершенной системе стимулирования рабочих. Он разработал систему материальных стимулов. Награду он представлял не только как денежное вознаграждение, но и советовал предпринимателям идти на уступки, поощрять
Пять принципов управления.
Переложить всю ответственность за организацию с рабочего на менеджера
Использование научного метода для определения эффективного метода выполнения работы.
Выбрать лучшего, кто может выполнить эту работу, как необходимо.
Натаскивать рабочего делать работу эффективно
Отслеживать производительность рабочего.
Генри Форд
Экономический эффект системы
Ведущая роль технологической системы
Точность как стандарт и качество продукции.
Руководители высшего звена(разработка стратегии, цели организации)
Руководители среднего звена( реализация стратегии, политика компаний)
Руководители низшего звена (повседневные задачи)
Тейлор развил научный менеджмент в трех основных направлениях .
1. Это нормирование труда.
2. Систематический отбор и обучение персонала.
3. Денежные стимулы, как вознаграждение за конечный результат.